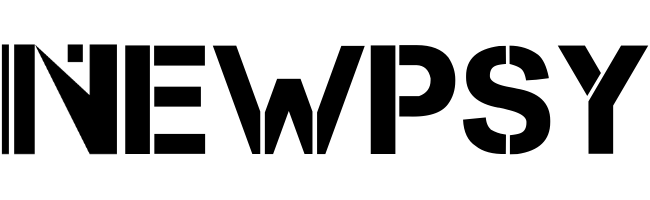Дэвид Уоллин о привязанности и психотерапии
Перевод: Анна Камнева
Дэвид Уоллин о привязанности и психотерапии
Перевод: Анна Камнева
Только соединить
Дэвид Дж. Уоллин: Понятно.
РУ: Давайте начнем с цитаты, которую вы приводите в самом начале вашей книги, из Э. М. Форстера: «Только соединить! Вот и все, к чему сводилась ее проповедь». Расскажите, о чем эта цитата для вас?
ДУ: Когда я впервые увидел эту фразу, она привлекла мое внимание, но я подумал, что она означает «только соединить с другими людьми», а на самом деле, думаю, Форстер имел в виду, что нужно соединить различные части себя. Мне понравилась эта двусмысленность, эта двойственность: находим мы или нет контакт с другими людьми, и находим ли мы контакт с различными аспектами нашей собственной личности.
РУ: Когда вас стало интересовать влияние идеи привязанности на психотерапию?
ДУ: Мое собственное становление как терапевта шло по достаточно распространенному пути – от классического психоанализа, через эго-психологию и теорию объектных отношений, селф-психологию и интерсубъективный и реляционный подходы. Я почувствовал, что нашел, что искал в интерсубъективном и реляционном подходах, потому что они предполагают, по существу, психотерапию отношениями.
На старших курсах я читал Джона Боулби, и возвращался к нему в разные периоды своего профессионального пути, но был не слишком хорошо знаком с его теорией. Затем я стал сдавать в почасовую аренду свой офис Нэнси Каплан, которая стала одним из трех авторов «Интервью о привязанности для взрослых». Однажды, когда мы вышли с ней на обед, я спросил ее: «Мне интересно, есть ли такая книга или статья, которую ты могла бы порекомендовать мне, чтобы я мог по-настоящему понять теорию привязанности? Мне это было бы очень интересно». А Нэнси сказала: «Ну, на самом деле мне не приходит на ум какая-то конкретная книга, но я могу собрать несколько материалов для тебя». Когда на следующий день я пришел в офис, я нашел там целый пакет книг и стопку вырезок и статей высотой в полтора фута.
Я начал читать и вскоре понял, что интерсубъективная теория и теория привязанности просто созданы друг для друга. Теория привязанности дополнила интерсубъективный подход в областях развития и диагностики, а интерсубъективный подход восполнял теорию привязанности в клиническом аспекте. Так что в сумме эти два направления дали бы понимание того, что происходит в процессе развития, психопатологии и психотерапии.
Интерсубъективный подход и теория привязанности
Дэвид Дж. Уоллин: Теория привязанности была и остается в первую очередь теорией развития. Также она объясняет, как развитие может пойти неправильно, то есть, как формируется психопатология. Это предмет большого числа исследований, но в основном это не про клинический аспект вопроса.
Боулби написал книгу под названием «Надежная база», в которой он говорит о значении теории привязанности для психотерапии, но он не углубляется в этот вопрос. Теория привязанности – это реляционная теория о том, как мы развиваемся в контексте взаимоотношений. Интерсубъективный и реляционный подход – это теории, объясняющие то, как люди меняются в ходе психотерапии. Если вы перенесете взгляд реляционных, интерсубъективных теоретиков на терапевтический процесс в контекст развития, который базируется на теории привязанности, у вас будет необыкновенно богатая база для организации ваших психотерапевтических вмешательств. В то же время, я думаю, это звучит так, будто работа терапевта в большей степени основывается на теории, чем это есть на самом деле.
РУ: В определенном смысле, как интерсубъективный подход, так и теория привязанности касаются отношений между двумя людьми, в то время как изначально в психоаналитическом мышлении существовала идея «чистого экрана» – нейтрального терапевта, на которого проецирует пациент. Пара «терапевт и пациент» как и пара «мать и ребенок» представляют собой очень близкие взаимоотношения, цель которых – облегчить развитие ребенка или пациента.
ДУ: Совершенно верно. Я думаю, это то, что имеет особую значимость для обеих теорий. Действительно, Боулби был очень недоволен современными ему аналитическими взглядами, которые, казалось, объясняли развитие и психопатологию исключительно происходящими внутри людей процессами, и их фантазиями о том, что происходит между ними и другими людьми.
РУ: Больше интрапсихическими, чем межличностными.
ДУ: Точно. Основное внимание уделялось фантазиям ребенка и тому, как они повлияли на ход развития, а в психотерапии основное внимание было направлено на фантазии пациента и то, как они сформировали разворачивающуюся ситуацию переноса-контрпереноса. Боулби понимал, что это абсурдно неполный взгляд на то, что на самом деле происходит между родителем и ребенком или пациентом и терапевтом. Теория интерсубъективности – это очень объемный ответ на идею Фрейда о том, что терапевт должен представлять собой чистый экран, быть невозмутимым подобно хирургу, что я считаю невозможным.
ВЯ: Я думаю, многие люди в общих чертах знакомы с теорией привязанности как с идеями Боулби или с работой с привязанностью, но они не читали целый пакет книг по этой теме. Когда это сделали вы, какие идеи вас зацепили больше всего?
ДУ: Думаю, если говорить коротко, то, что я нашел интересным – это исследования привязанности. Это не столько сами книги Боулби, сколько работы Мэри Мейн, Питера Фонаги, Мэри Эйнсворт и других, кто проверил идеи Боулби, дополнил их, и принес тем самым огромную клиническую пользу.
Мэри Эйнсворт изначально определила два пути, по которым развитие ребенка идет неправильно – это то, что она назвала избегающей и амбивалентной привязанностями. Мэри Мэйн открыла третий путь, по которому развитие может пойти ненормально: дезорганизованная привязанность. И эти научные исследования развития я нашел очень убедительными, и, безусловно, более убедительными, чем обычная диагностика, которая когда-то меня очень интересовала.
ВЯ: Вы говорите о диагнозе по DSM?
ДУ: Я говорю об истерическом, обсессивно-компульсивном, пограничном, шизоидном, параноидном и прочем.
ВЯ: DSM довольно описательна, в то время как типы привязанности в большей степени объясняют то, какие формы отношений они принимают.
ДУ: Типы привязанности помогли мне не только понять психические состояния, в которых когда-то пребывали мои пациенты и я сам, но и получить представление об отношениях между родителем и ребенком, которые могли бы привести к этим самым состояниям. Например, я начал думать о тех пациентах в моей практике, которых можно было бы назвать отстраненными. Отстраненность – это последствия избегающего типа привязанности в младенчестве. Я поймал себя на мысли, что пациенты, которые во взрослом возрасте отдалены и от самих себя, и от других людей, в детстве испытывали необходимость оставаться на некотором расстоянии от своих родителей, а также имели проблемы с попытками сблизиться со своими родителями.
Я смог взглянуть на опыт своих пациентов через призму упорядоченной и полезной теории, и, в конечном счете, мои размышления над всем этим позволили мне выработать некоторые теоретические рекомендации о том, как можно было бы помочь пациенту, который относится к определенному типу привязанности. Я также должен был подумать о своем собственном отношении к привязанности – каким образом оно может влиять на мое поведение.
Применение теории на практике
ДУ: Совершенно верно. Представим, например, кого-то, кто ведет себя довольно пренебрежительно. Он кажется очень крутым. Он начинает сеанс со слов: «Как у тебя дела?» – «Я в порядке. А вы сами?» – «Отлично. Все хорошо», несмотря на то, что в их жизни все идет плохо. Я думаю, что понять, что происходит с моим пациентом, который держится на расстоянии от своего собственного опыта, эмоций, телесных ощущений и так далее, я могу, ориентируясь на мои собственные переживания.
ВЯ: Я замечаю, что вы часто жестикулируете. Читатели этого увидеть не смогут, но вы показываете жестами, что ваш пациент отталкивает вас, есть ли у вас чувство, что вы часто на себе это испытываете?
ДУ: Я думаю, что это правда. Я думаю, что с пациентом в отстраненном состоянии – я замечаю, что делаю тот же самый жест – я думаю, вы можете чувствовать себя отталкиваемым. Это может быть пациент, для кого контакт с тем, что происходит внутри, очень важен, но часто он не может наладить его самостоятельно. Весь внутренний мир и история болезни пациента работает против установления этих связей между их сознательным «я» и их внутренним опытом.
Я также склонен предполагать, что тот наш опыт, который мы не способны допустить к осознанию – а значит, мы не можем и говорить о нем, раз не можем о нем думать – мы вызываем в других людях. Поэтому я склонен полагать, что, обращая внимание на то, что происходит внутри меня, я могу получить некоторые наиболее наглядные подсказки относительно того, что происходит у них внутри.
Возможно, я чувствую, себя отталкиваемым, потому что пациент отталкивает меня. Но, я думаю, это та самая проективная идентификация. Часто то, что я испытываю, в некотором роде является отражением того, что на самом деле испытывает пациент, в терминах Фрейда, своего рода предсознательным образом. Другими словами, в эмоциональном плане это как бы у пациента «на кончике языка», но он или она не в курсе этого.
РУ: И вы считаете, что очень важно говорить о том, что является предсознательным или довербальным для пациента. Почему или как, по-вашему, это ценно?
ДУ: Я думаю, что когда нам не хватает слов для описания нашего опыта, наш опыт, как правило, становится гораздо более захватывающим, гораздо более ошеломляющим. Я думаю, что наличие слов – это способ рассказать о нашем опыте, так что оформление до сих пор невербализованного опыта в слова позволяет нам чувствовать себя менее одинокими наедине с ним. Становясь менее одинокими, мы становимся и менее подавленными. Облачение опыта в слова – это часть того, как мы интегрируем опыт.
как мы интегрируем опыт.
ДУ: Во-первых, это создает живой обмен эмоциями, который является большой частью того, чего, я думаю, может не хватать в терапии с отстраненными пациентами. Терапия может быть беседой говорящих голов – с низким уровнем жизни, низким уровнем эмоций. Поэтому, когда терапевт вовлекает свой собственный эмоциональный опыт, это может многое открыть для пациента. Я думаю, что здесь есть своего рода моделирование: для пациента может быть безопаснее думать и чувствовать или безопаснее чувствовать определенные вещи, чем он или она, вероятно, считали возможным. И если терапевт моделирует что-то, это открывает возможности для пациента.
Есть замечательная цитата из Боулби, где он цитирует Фрейда, говорящего, что у пациента, который обнаруживает то, что он ранее считал забытым, почти всегда возникает одно и то же ощущение, или им произносятся одни и те же слова, которые звучат так: «Я всегда это знал, но я никогда об этом не думал».
РУ: Будто бы знал об этом довербально, телесно.
ДУ: Да. Кристофер Боллас со своей книгой «Тень объекта: психоанализ немыслимого известного» вполне мог прочитать тот же отрывок у Фрейда. В любом случае, идея заключается в том, что пациенты часто знают о своем внутреннем опыте больше, чем могут выразить словами. Поэтому, когда терапевт формулирует какой-то аспект того, что происходит в переживании, пациент часто признает это.
РУ: Можете ли вы привести нам пример с конкретным пациентом, для которого это было актуально?
ДУ: Я помню разговор с одним пациентом – это был парень, который сразу заставил меня почувствовать, что он вот-вот выйдет за дверь. В любую минуту. Он был на терапии только потому, что его жена настояла на том, чтобы он прошел курс терапии. Практически с самого начала терапии у меня было это ощущение, но я смог описать его себе только к третьему сеансу. Было чувство, будто я был свидетелем на суде и имел дело с исключительно блестящим и агрессивным прокурором, и, следовательно, моя речь должна была быть безукоризненной.
с исключительно блестящим и агрессивным
прокурором, и, следовательно, моя речь
должна была быть безукоризненной.
РУ: Это напоминает мне о том, как песня о расставании, любви или жизни, вызывает ощущение, будто исполнитель точно знает, что ты чувствуешь. Это мощно, это много значит. Более того, субъективный опыт терапевта может быть ценной частью уравнения в понимании клиентом своего субъективного опыта.
ДУ: Безусловно. Я думаю, что субъективный опыт терапевта при работе с пациентами почти всегда является ценным ресурсом.
ВЯ: Независимо от того, правильно это или нет.
ДУ: Да, независимо от того, правильно это или нет.
ВЯ: Если это не совсем правильно, они могут сказать: «Да, но это кажется не совсем правильным; это не совсем мой опыт», а затем уточнить.
ДУ: Совершенно верно. И иногда то, что я должен сказать, действительно звучит как колокольчик, задевает чувствительную струну, а в других случаях, хотя и реже, кажется, что это не подходит. Мне кажется, что почти всегда существует значимая, неслучайная связь между тем, что испытывает терапевт на сеансе, и тем, что испытывает пациент.
ВЯ: Теперь, возвращаясь немного назад, к вашей истории – это был отличный образ пациента как обвинителя. Я думаю, что эти образы постоянно возникают у терапевтов, независимо от того, выражаем мы их или нет. Но вы сказали, что он все равно собирался уйти, так что вам нечего было терять. И тогда вы подумали: «Ну, я могу рискнуть». И все же, почему вы должны были дойти до этого момента? Почему бы не выразить эти чувства более свободно? Я думаю, что в нашей профессии существует предубеждение, мы стараемся не показывать этого.
ДУ: Да, это хороший вопрос. Это уж точно. И я думаю, что с течением времени лично я все меньше и меньше поддаюсь этому предубеждению, но, безусловно, бывают моменты, когда я все еще увлечен им и, возможно, не решаюсь раскрыть что-то из своего собственного опыта.
Как бы то ни было, я обнаружил, что, когда я рассказываю о своем опыте, это гораздо, гораздо чаще, приносит свои плоды, чем нет. Другими словами, наша с пациентом эмоциональная вовлеченность, кажется, углубляется, или мы погружаемся в какой-то материал, вокруг которого появляется какой-то смысл, который ранее не был очевиден ни для одного из нас.
Было несколько случаев, когда все шло наперекосяк.
РУ: Я думаю, именно здесь на помощь придет клиническая оценка. Потому что иногда вы раскрываетесь – любой из нас, любой терапевт – и это может стать ошибкой или не дать желаемого эффекта, и как с этим быть – тоже важная часть этого.
ДУ: Но это верно, конечно, в отношении любого вмешательства.
РУ: Это верно и в отношении того, чтобы молчать, слушать и ничего не говорить.
ДУ: Или для интерпретации, или шутки, или совета – чего угодно.
ВЯ: И все же самая распространенная жалоба, которую я слышу от клиентов, которые обращались к предыдущим терапевтам, заключается в том, что они говорили недостаточно.
ДУ: «Вы ведь не из тех терапевтов, которые никогда ничего не говорят, не так ли?»
(смех)
РУ: «Вы общаетесь со своими клиентами?» – спрашивают они.
ДУ: Я уже слышал этот вопрос раньше.
РУ: Есть ли у вас какие-либо практические правила для самораскрытия или оценки в этом отношении?
ДУ: Основным критерием для меня является: «Думаю ли я, что это будет в интересах пациента?» Вероятно, трудно сказать, как я оцениваю, отвечает ли это интересам пациента или нет.
Конечно, есть некоторые разоблачения, когда вы где-то проговариваетесь. И иногда это нормально, и тогда наступает спонтанное взаимодействие; вероятно, это здоровая черта многих успешных методов лечения. Но я думаю, что если я размышляю про себя: «Будет ли полезно рассказать что-нибудь о моем опыте здесь пациенту?», как правило, критерий таков: «Может ли пациент использовать это? Ожидаю ли я, что пациент сможет воспользоваться моим опытом? Как пациент сможет использовать это?»
РУ: Отчасти это основано на интуиции, развившейся со временем, или на личном опыте, в жизни и терапии.
ДУ: Я думаю, что существует настоящий навык, связанный с представлением своего опыта пациенту в удобной для использования форме. Я думаю, что есть нюансы языка, которые приходят ко мне автоматически, и я думаю, что в конечном итоге пациент чувствует, что то, что я привожу, то, что я раскрываю, не представляет угрозы. Это не критика. Это не требование. Это то, на что нам двоим вместе нужно посмотреть – сможем ли мы использовать это или нет.
Чем терапевт похож на родителя?
ДУ: Когда вы пишете книгу, она может стать прекрасным поводом для откликов других людей. Я неожиданно получил электронное письмо от Луиса Брегера, чью книгу «От инстинкта к идентичности» я прочитал, когда был аспирантом в Институте Райта в 70-х годах. Ему очень понравилась моя книга, но он поднял вопрос: «В какой степени мы совершаем ошибку, предполагая, что нет никакой разницы между взрослым пациентом и ребенком?»
Мой ответ был таков: «Если мы думаем о терапии как о чем-то вроде новых отношений привязанности, то это новые отношения привязанности между двумя взрослыми, но также и отношения между терапевтом как родителем и пациентом как ребенком. Или, может быть, в некотором смысле это также отношения между терапевтом как ребенком и пациентом как ребенком – другими словами, эти детские части нашего «я». Вы знаете, мы не избавляемся от них полностью».
РУ: Уязвимые места, конечно.
ВЯ: Страхи, тревоги.
ДУ: И невербальный опыт, который остается внутри нас непереваренным. Мы привносим эти стремления, эти страхи во взрослые отношения. Я думаю, что имеет смысл думать об этом как о, в некотором смысле, детской части нас самих. Когда эта очень юная часть нас может ожить в отношениях с терапевтом, у этой нее появляется возможность измениться и развиваться.
Еще одна вещь, которую я счел полезной, – это подумать об исследовании особенностей, наиболее способствующих развитию отношений между родителями и детьми, и использовании полученной информации о том, что наиболее благоприятно для развития, в отношениях с взрослым пациентом. Есть много других авторов – Холмс, Аллан Шор, Винникотт, – которые указывали на симметрию между тем, что мы предоставляем как хорошие родители и как хорошие терапевты.
РУ: «Достаточно хорошая мать». «Достаточно хороший психотерапевт». В каком смысле вы, как терапевт, пытаетесь воплотить эту связь, эту идею? Я имею в виду, что в этой роли вы не родитель, а психотерапевт.
ДУ: Да, конечно. В своей книге я излагаю четыре составляющих отношений, способствующих росту в детстве, из которых можно извлечь уроки для психотерапии. Одним из них является тот факт, что отношения между родителями и детьми, которые, по-видимому, дают самое здоровое, гибкое, безопасное и жизнестойкое потомство, как правило, являются максимально инклюзивными. Другими словами, они оставляют как можно больше места для глубины и широты чувств, желаний, взглядов, поведения ребенка. Ребенку позволено познать самого себя в контексте отношений с родителем, который интересуется опытом этого ребенка и освобождает место для его опыта.
Я думаю, что то же самое верно и в отношении психотерапии. Вы можете рассматривать психотерапию как отношения, в которых терапевт, как фигура привязанности, пытается освободить место для переживаний, для которых первоначальные фигуры привязанности пациента не смогли найти места. Поэтому я заинтересован в том, чтобы узнать как можно больше о том, что чувствует пациент, на что надеется, чего боится; чего пациент хочет от меня, каково ощущение пациентом наших отношений в любой данный момент, что происходит внутри тела пациента. Я просто хочу освободить для этого как можно больше места, потому что я думаю, что это способствует интеграции ранее разобщенного опыта.
РУ: Ранее диссоциированные переживания… можете ли вы рассказать об этом и о том, как это может отразиться на терапии?
ДУ: Мэри Мэйн, а также Боулби и множество психоаналитиков сделали клинически полезное замечание о том, что мы можем думать о внутреннем мире как о фиксации и повторении того, что произошло в наших первых отношениях. Но Мейн добавляет, что есть и другой способ думать о внутреннем мире, который представляет собой набор правил для обработки информации.
В наших первых отношениях мы узнаем, что разрешено, а что исключено: что мы можем безопасно чувствовать, говорить и хотеть. Я думаю о диссоциированном опыте как об опыте, который был исключен на основе того, что произошло в наших ранних отношениях. Это также следствие травматического опыта, независимо от того, происходит ли он в контексте ранних отношений привязанности или более поздних отношений привязанности или, если уж на то пошло, вне контекста отношений привязанности.
Многие из нас глубоко затронуты, хотя связи часто лежат за пределами нашего осознания диссоциированными переживаниями, которые мы никогда не могли полностью осознать.
В терапии диссоциированный опыт часто представляет собой переживание, которое пациент не может выразить словами, или переживание, которое даже нельзя выразить в мыслях или чувствах. Мое внимание часто сосредоточено на том, что пробуждается во мне, потому что я думаю, что то, чем люди не могут владеть и что не могут выразить, они часто пробуждают в других. Я также обратил свое внимание на то, что происходит между мной и пациентом, поскольку это еще один способ выражения диссоциированного опыта.
Наконец, я сосредоточил свое внимание на том, что происходит в моем собственном теле и что происходит в теле пациента, потому что я часто думаю, что то, что не может быть осознанно, знает тело. В некотором роде это становится частью соматического опыта человека: то, как он себя ведет, его телесные ощущения.
РУ: Это довольно глубоко. То есть ваше внимание к переживаниям терапевта как к важному источнику информации о том, что диссоциировано пациентом, связанно с привязанностью, его прошлым и терапией.
ДУ: Я называю это соматическим контрпереносом – то, что происходит в теле терапевта. Я думаю, что эти категории – что пробуждается, что разыгрывается, что воплощается – имеют тенденцию пересекаться. Иногда то, что вызывается у терапевта, то, что терапевт испытывает, – это телесное ощущение.
ВЯ: И некоторые терапевты гораздо больше настроены на свое тело, некоторые – на свои эмоции, а некоторые – на свои мысли.
ДУ: Да. Я помню, как когда-то был на презентации Элизабет Майер, ныне покойной. Она, как и вы, говорила о том, что разные терапевты имеют разные ресурсы. Некоторые на самом деле хороши в том, чтобы обращать внимание на телесное, некоторые – в том, чтобы замечать динамику переноса и контрпереноса, а другие – в работе со снами. И какими бы ни были ваши ресурсы, они – то, что вы привносите в эту встречу.
Психотерапия с акцентом на привязанность
ВЯ: Иначе этот вопрос может звучать так: «Если бы вы были мухой на стене, наблюдающей за ориентированным на привязанность терапевтом, в чем бы вы видели разницу с другими подходами?»
ДУ: На этот вопрос довольно сложно ответить, потому что я не знаю, как работают другие терапевты.
ВЯ: В этом загадка нашей профессии.
ДУ: Ну, в общем, все, о чем я могу рассказать, это о том, как работаю я.
РУ: Очень честный ответ. Позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы не ведете себя так, будто точно знаете, в чем разница. Тем не менее, что-то направляет вас и заставляет уделять внимание чему-то, чему не уделяют другие.
ДУ: Верно. Я думаю, что, вероятно, существует довольно тесная взаимосвязь между тем, что может делать терапевт, ориентированный на привязанность, с одной стороны, и терапевт, ориентированный на отношения – интерсубъективно ориентированный терапевт – с другой. Основное сходство в том, что большое внимание уделяется отношениям «здесь и сейчас» – тому, что происходит с пациентом прямо здесь и прямо сейчас и что происходит с терапевтом прямо здесь и прямо сейчас.
Когда я работаю в полную силу, я очень включен и интегрирован. Я сосредоточен на своем собственном внутреннем опыте. Основное внимание уделяется внутреннему опыту пациента – его воспоминаниям, постановкам, воплощениям. Кроме этого, внимание фокусируется на моем отношении к собственным переживаниям во время работы с пациентом и на отношении пациента к его или ее собственному опыту, когда мы вместе. Весь вопрос в ментализации и осознанности – это то, о чем я часто думаю, когда работаю пациентом.
РУ: Итак, вы перечислили много аспектов: опыт клиента, ваш опыт, наш опыт. Чтобы вопрос был более практическим – работаете ли вы с разводом, потерей работы, паникой и так далее? Как привносится содержание или контекст жизни пациента?
ДУ: Конечно. У меня есть пара мыслей по этому вопросу. Во-первых, я уверен, что как у терапевта у меня много общего с такими психоаналитиками, как Оуэн Реник или Майкл Бейдер, которые пишут о важности облегчения симптомов в терапии.
Очень часто я ловлю себя на том, что говорю людям или парам, с которыми я работаю, что обычно работаю на двух взаимосвязанных уровнях. Один из них – практический: что вас волнует? что мешает? что беспокоит? что мы можем сделать с этим вместе? И есть еще один уровень, более психологический, связанный с взаимоотношениями между тем, что вы испытываете, что вам трудно, что вы испытали в детстве, тем, как вы научились думать и чувствовать, и тем, какие представления вы имеете о себе и других людях. Я думаю, что если я оставлю одно или другое без внимания, я не помогу вам. Поэтому я постараюсь сосредоточиться на обеих этих целях.
РУ: Чтобы сделать еще один шаг… ваше предположение и, я думаю, ваш опыт, заключаются в том, что фокусировка внимания на психологическом и межличностном, интерсубъективном, влияет на жизнь пациента в плане депрессии, паники и отношений.
ДУ: Безусловно. Я думаю о них как о двух переплетающихся нитях одной веревки. Я чувствую, что должен начинать с того места, где находится пациент, поэтому я пытаюсь интуитивно понять на протяжении всего сеанса, что наиболее эмоционально важно для пациента? Что вас больше всего интересует или беспокоит? Или если пациент кажется далеким от каких-либо переживаний, как будто ничего интересного или тревожного нет, – это также привлекает мое внимание. Но я думаю, что стремление начать с того, где находится пациент, означает, что вы в основном фокусируетесь на том, что его беспокоит.
Терапевтические отношения и отношения пациента
ДУ: Я думаю, что, вероятно, существует множество путей, как улучшить практическую сторону, сосредоточив внимание на том, что происходит в терапевтических отношениях. Во-первых, мы говорим о чьем-то отношении к самому себе или чьем-то отношении к другим людям – как правило, нарушается именно это. Вот что беспокоит людей: мои отношения с самим собой – я чувствую себя подавленным, я постоянно в тревоге; или мои отношения с другими людьми – я всегда чувствую себя неуверенно с другими, или я очень недоверчив к другим, или я злюсь на других, или я чувствую себя разочарованным другими, или другие люди кажутся более важными и умными, чем я, или что бы то ни было еще. Похоже, что людей беспокоят аспекты их отношений с самими собой или отношений с другими людьми.
Если я как терапевт начинаю обращать внимание на то, что происходит в моих отношениях с пациентом, это обеспечивает своего рода переживание «здесь и сейчас» аспектов отношений пациента с другими людьми или отношений пациента с самим собой, которые вызывают беспокойство.
РУ: Можете ли вы привести нам пример из вашей работы?
ДУ: Я вспомнил о мужчине, который не чувствовал близости со своей женой, и я заметил, что он несколько далек и от меня, и от своих собственных чувств. Если я смогу найти способ поговорить с пациентом об этом, например: «Боже, мы говорим об этом очень тревожном событии, а вы кажетесь совершенно равнодушным. Я спрашиваю вас, что вы чувствуете по этому поводу, и вы отвечаете: «я думаю…» или «я размышляю…», но вы этого не чувствуете. Мне было бы интересно узнать, что там происходит, независимо от того, уверены ли вы в своих чувствах, когда вы здесь, со мной, или вам трудно установить связь с тем, что вы чувствуете в целом».
А потом, позже, я мог бы сказать что-то вроде: «Если вы не испытываете так много эмоций по отношению к тому, что я говорю, в то время как мне кажется, что это должно было бы вызвать у вас очень много эмоций, я чувствую себя как бы оторванным от вас».
ВЯ: Что происходит, когда вы делаете такие заявления?
ДУ: В идеале, я думаю, пациенту становится любопытно: «Вау. Боже, я, кажется, эмоционально отрезан от переживаний, которые, по крайней мере, по вашим словам, должны были бы затронуть до меня. Интересно, почему так?»
ВЯ: А после того, как они заинтересуются?
ДУ: С течением времени между тем, что происходит в терапевтических отношениях, и тем, что происходит в других важных отношениях пациента, часто возникают связи, некоторые из которых уходят в прошлое. Когда пациент говорит о своем опыте, у терапевта есть способность быть с этим опытом, переносить его, что позволяет и пациенту углубить свой опыт.
РУ: Это та надежная база, которую терапевт пытается обеспечить в отношениях с пациентом.
ДУ: Это его часть, обеспечивающая надежную базу. Я думаю, что это означает создание отношений, в которых пациент чувствует себя в достаточной безопасности, достаточно вовлеченным, достаточно понятым, достаточно принятым, чтобы рискнуть идти туда, куда он или она ранее считали слишком опасным идти.
РУ: У меня был клиент, который в первые несколько сеансов раскрыл множество болезненных вещей о травме, детстве и насилии в его семье, и вскоре после этого, он сказал мне, что на той неделе был просто в ужасе от кошмаров, от всего...
ДУ: Он вступил в контакт со своим травматическим опытом.
РУ: Он подключился к травмирующему опыту, который был таким потрясением. А потом он написал об этом песню, начинающуюся со слов «я родился в сущем аду…», и она звучала именно так. Сначала он чувствовал, что просто хочет убежать от терапии: «Эта терапия – перебор. Эй, у меня было всего несколько сеансов, и теперь я сокрушен». Тем не менее, он держался и исследовал свою жизнь, что было для него чрезвычайно рискованно, и я, конечно, стремился предоставить пространство для этого.
ДУ: Верно. Я думаю, что пациенты должны на своем опыте работы с нами, как бы выяснить, действительно ли это безопасно. Позволяют ли ему наши ответы чувствовать себя понятым, принятым или нет? Это своего рода свойственно пациентам, получившим травму – им чрезвычайно трудно чувствовать себя в безопасности, и я думаю, что им часто удается обнаружить небезопасность в ситуациях, которые мы представляем безопасными. Например, они могут чувствовать, что мы соблазняем их на отношения с нами, которые, как они ожидают, исходя из их собственного опыта, на самом деле неизбежно будут опасным опытом, опасными отношениями.
РУ: Так что это реальный риск, на который они идут, и для погружения требуется большая безопасность, которую нельзя недооценивать.
ДУ: Основываясь на моем опыте работы с большим количеством разных пациентов, столкновение с травмой почти неизменно вызывает вопросы о безопасности отношений с терапевтом. Часто это два взаимосвязанных процесса, поэтому, когда всплывает вопрос о том, опасны или безопасны отношения с терапевтом, это обычно связано с травмами прошлого.
Я думаю, что существует общая модель, которая имеет определенное значение – мы создаем отношения некоторой безопасности, которые обеспечивают контейнер, внутри которого в какой-то момент пациент будет чувствовать себя достаточно защищенным, чтобы противостоять травмирующему опыту прошлого. Но я думаю, что эта модель имеет гораздо больше смысла, если вы думаете об этом не как о двухэтапном процессе, а скорее как о двух аспектах одного процесса, который вы проходите снова и снова, снова и снова.
Другими словами, если вы обратите внимание, вы заметите озабоченность пациента вопросом безопасности в отношениях с вами, с одной стороны, а с другой – вы будете то и дело слышать отголоски или явные отсылки к травматической истории пациента, и вы будете касаться то одного, то другого в течение довольно долгого времени.
Роль осознанности
ДУ: Когда я впервые задумался о написании этой книги, осознанности вообще не было места в моем мышлении. И только случайно – или, может быть, здесь действует какая-то синхронность, или благодать, или бог знает что еще – я наткнулся на тему осознанности. Просто однажды я случайно задумался о некоторых идеях, о которых в то время писал. Я думал о некоторых идеях Фонаги…
Я помню, как я сидел на своей террасе и чувствовал себя очень расслабленным, когда в моей голове возникло это причудливое изображение трех концентрических кругов. Самый внешний круг представлял внешнюю реальность. Внутри этого был второй круг, представляющий репрезентативный мир ментальных моделей, и т.д. И затем внутри этих двух кругов был третий, который обозначал то, что Фонаги называет рефлексивным «я», то есть ту часть личности, которая способна размышлять о взаимоотношениях между репрезентативным миром и внешней реальностью.
И когда я размышлял об этих трех кругах, на ум пришли, казалось бы, неизбежные вопросы: кто или что размышляет о взаимоотношениях между репрезентативным миром и внешней реальностью? Что такое рефлексивное «я»? Кто или что делает это отражение? Из чего состоит рефлексивное «я»?
И когда я задавал себе эти вопросы, я получил ответ, но не в форме концептуального понимания, а в виде опыта.
У меня было какое-то головокружительное ощущение распадающегося «я». Это очень трудно описать, но это было так, как если бы мое обычное самоощущение рушилось до одной точки, которая представляла собой не что иное, как безличное осознание. И поэтому это казалось ответом на вопрос: «Кто занимается отражением?» – не было никого или никакого личного «я».
Когда у меня был этот опыт, я также испытал это потрясающее чувство благополучия, значительно усилившееся чувство связи с другими людьми. Я начал чувствовать, что ты, я и все, кого мы знаем, и, возможно, наши домашние животные – все одинаковы по своей сути. Таким образом, возникло это значительно усилившееся чувство связи с другими людьми. Защита была значительно снижена.
В целом, это было мощное и освобождающее осознание, которое я смог удерживать около пары недель; сначала я не мог перестать говорить об этом, потому что это было так притягательно. И казалось, что люди, которые понимали, о чем я говорил, были медитаторами или имели какую-то духовную практику, как говорится. И так я пришел к тому, что стал преданным медитатором, потому что мне казалось, что это состояние ума нужно искренне искать. Мне также показалось, что то состояние ума, которое я испытал, было связано с тем, что в буддийской традиции называется осознанностью.
Медитация кажется путем к осознанию осознанности, и, похоже, это путь к способности присутствовать с толикой принятия. Осознанность также идеально вписывается в общую идею, которая очень тщательно исследована в области привязанности – идея о том, что опыт людей меняется в той степени, в какой меняется их отношение к собственному опыту.
ВЯ: А какова была связь между этим удивительным опытом и идеями привязанности?
ДУ: В исследовании привязанности была проделана большая работа по изучению влияния развития так называемой «рефлексивной позиции» – той, что Мэри Мэйн называет метакогнитивной, а Питер Фонаги называет ментализирующей позицией – на опыт. И что кажется правдоподобным, так это то, что рефлексивная позиция по отношению к опыту защищает человека от наихудших последствий травмы.
Таким образом, большая часть размышлений, вошедших в мою книгу о психотерапии и привязанности, была посвящена всей этой концепции рефлексивной, ментализирующей или осознанной позиции как позиции, которая преобразует наши отношения с нашим опытом таким образом, что мы освобождаемся от многих ограничений, которые возникают в ходе нашей личной жизни, истории. Поэтому я бы как-то причудливо назвал ментализацию и осознанность двойной спиралью личного освобождения или психологического освобождения.
РУ: Осознанность и ментализация это то, о чем вы говорите с клиентами, или вы просто используете это косвенно?
ДУ: В основном я использую его косвенно. В моей практике обычно есть несколько пациентов, с которыми я начинаю каждый сеанс примерно с пяти минут медитации. Есть несколько большее число пациентов, которым я предлагаю использовать медитативную практику.
РУ: Как вы подходите к своему собственному чувству осознанности на сеансе?
ДУ: Я думаю, что вопрос осознанности – это то, что почти всегда со мной на любом отдельно взятом сеансе. Я думаю о том, в какой степени я действительно способен присутствовать с пациентом в любой момент времени, или я нахожусь где-то в другом месте. Присутствует ли пациент или он находится где-то в другом месте? Я пытаюсь сделать все, что в моих силах, чтобы присутствовать, и я пытаюсь быть осознанным. И я пытаюсь сделать все, что в моих силах, чтобы помочь пациенту присутствовать – это то же самое, что помочь пациенту быть более осознанным – точно так же, как я пытаюсь помочь людям стать более эффективными ментализаторами своего собственного опыта.
ВЯ: Конечно, эта идея осознанности присутствует во многих школах психологии. Я очень тесно сотрудничал с Джеймсом Бьюдженталем, и то, что он называл присутствием в клиенте и терапевте, кажется очень похожим.
РУ: Соглашусь с присутствием в качестве становления, а не оценки. Но я полагаю, что это идет еще дальше. Осознанность, по-видимому, имеет свои корни в каждой крупной религии в том или ином виде – в представлениях об исламской покорности, христианской благодати, мистических молитвах, буддийском принятии, еврейском понимании Божьей воли или индуистской карме. Кажется, есть что-то действительно сильное в том, что клиент принимает: «я был травмирован», или «я сейчас испытываю что-то в своем теле», или «я подавлен и напуган» – просто замечая и оставаясь с тем, что есть.
ВЯ: Или – «я чувствую себя прямо сейчас, в этих отношениях «x» и «y».
РУ: Хотя я думаю, что учиться и расти это хорошо и прекрасно, кажется, что быть здесь и сейчас – это, как говорил Рам Дасс – свобода.
ДУ: Да. Да. Да. Очень интересно, что, даже когда мы с вами говорим об осознанности, я чувствую себя более настоящим.
РУ: Да, я заметил.
ДУ: Разве это не замечательно? И когда я рассказываю об этом или сосредотачиваюсь на этом с пациентом, как только я начинаю говорить об этом – если я могу стать осознающим – все меняется. Это немного волшебно.
РУ: В этом есть что-то освобождающее; это открывает возможности принимать жизнь такой, какая она есть.
ДУ: Я думаю, что когда я становлюсь осознающим или когда вы, ребята, становитесь осознающими, часть того, что мы получаем – это настоящее. И это означает, что, помимо всего прочего, субъективно говоря, прошлое и будущее отсекаются, что, я думаю, имеет тенденцию сильно снижать тревогу и депрессию. Потому что часто то, где мы находимся в настоящий момент, не так уж плохо. Это не так уж опасно. Все в порядке. Поэтому я думаю, что с этим присутствием приходит определенная степень эмоциональной или внутренней свободы.
РУ: Теперь я думаю, что такая осознанная жизнь и возможность присутствовать могут на самом деле увеличить надежную базу.
ДУ: О, точно, точно. Я склонен думать, что, когда вы медитируете или просто снова и снова испытываете опыт присутствия и наблюдения, и особенно когда вы снова и снова испытываете осознанность, это потенциально может стать версией внутренней надежной базы.
ВЯ: Я думаю, что некоторым клиентам – замкнутым, шизоидным – медитация не всегда помогает. Они могут уединиться в этом мире медитации, и это не обязательно поможет им больше общаться с другими людьми.
ДУ: Я думаю, вам следует обратить внимание на природу их медитативной практики. Тем не менее, я действительно думаю, что то, о чем вы говорите, – реальность. В определенных сообществах об этом говорят как об уходе в духовность: они обходят свой собственный внутренний опыт, дистанцируясь или диссоциируя. Мне кажется, это совсем другое дело.
РУ: В своей книге вы хорошо обращаетесь к уходу в духовность – в ней идет речь о балансе инь и ян. Вы предлагаете ментализацию или осознанность, не для того, чтобы избежать жизни, а чтобы испытать единение и присутствие с самим собой и другими. Как вы сказали, у вас был опыт, и тогда вы были очень присутствующим. Это не было бегством. Если это просто бегство, тогда другое дело.
ДУ: Да. На самом деле иногда я медитирую между сеансами хотя бы несколько минут. Это часто способствует тому, что я способен больше общаться с людьми, с которыми я работаю.
Три жемчужины для терапевтической практики
ДУ: К выходу в свет готовится книга, в которой меня попросили поучаствовать, и называться она будет как-то вроде «Клинические жемчужины мудрости: важные идеи ведущих терапевтов», меня попросили поделиться своими собственными «клиническими жемчужинами» для нее.
ВИ: Тогда мы хотим ознакомительную версию.
ДУ: Хорошо, пожалуйста. Мои «клинические жемчужины» заключаются в следующем: во-первых, собственные модели привязанности терапевта часто, если не всегда, оказывают основное влияние на формирование его или ее способности помогать в качестве терапевта. Другими словами, наши собственные истории привязанностей и навязанные ими диссоциации, а также то, как мы работали с некоторыми из этих диссоциаций, – все это создает способность терапевта быть проницательным, а также уязвимым для того, чтобы зайти с пациентом в тупик. Итак, я говорю о центральной роли собственной психики терапевта как помощницы, так и ограничивающего фактора того, что он способен делать с пациентами, что будет полезно. Во-вторых…
ВИ: Чтобы нам лучше понять это, могли бы вы поделиться о себе чем-то, что помогло вам стать лучшим терапевтом?
ДУ: Конечно. И я постараюсь не плакать. Эта идея стала чрезвычайно яркой для меня во время работы с конкретным пациентом, с которым, как я чувствовал, мы зашли в тупик. Это был пациент с травмой в анамнезе и некоторыми очень серьезными трудностями, которые он привносил в свою собственную жизнь, что резко ограничивало его способность иметь достойные отношения и познавать себя.
Примерно в то же время я работал над своей личной терапией. В ней я столкнулся с некоторыми чрезвычайно болезненными, сложными чувствами по отношению к себе, которые были связаны с переживаниями, которые я пережил, когда был очень молод. Эти переживания оставили у меня набор чувств по отношению к себе – глубоко постыдных и практически невыносимых – и это наводило меня на некоторые очень саморазрушительные мысли. И вот в ходе работы над этим в моей личной терапии я получил кое-что, что оказалось очень полезным.
Примерно в то же время я был в консультативной группе с коллегами, и описывал свои чувства гнева и зависти по отношению к этому травмированному пациенту. Он оказался необычайно богатым парнем, который мог делать практически все, что хотел. И один из моих консультантов сказал: «Хорошо, мы понимаем, каково вам быть с этим пациентом, и у нас есть представление о том, кем является пациент сегодня, но вы ни слова не сказали о его детстве, о том, как он стал таким, какой он есть». И именно этот вопрос побудил меня навести мосты между моим собственным опытом и опытом этого пациента.
Когда я рассказывал о травме, которую этот пациент пережил в детстве, я начал плакать. Я осознал, каким образом я отождествлял себя с этим пациентом – как тупик, в котором я оказался с ним, был в некотором роде продуктом моего собственного опыта. Я не хотел тащить пациента в ту камеру пыток, которую так хорошо знал.
Осознание того, как я избегал – я имею в виду, если говорить коротко – приглашения этого пациента на встречу с его собственным чувством стыда как действия моих собственных трудностей с переходом на эту территорию. Вот что удерживало нашу терапию в тупике. И как только я начал интегрировать эту часть себя, я смог освободить место для этой части пациента в терапии.
РУ: Красиво и трогательно. А две другие «жемчужины»?
ДУ: Хорошо. Итак, вторая «жемчужина» – это вопрос, который нужно задать, когда вы пытаетесь выяснить, как ваши собственные модели привязанности влияют на терапию. Вопрос, который нужно задать себе, чрезвычайно прост: «Что я на самом деле делаю с этим конкретным пациентом?» Это не всегда вопрос, на который вы можете получить полный ответ, потому что ответ часто скрыт в туманном царстве диссоциированного, но я думаю, что вы, безусловно, можете увидеть верхушку айсберга, когда спросите себя: «Что я на самом деле делаю с этим пациентом?»
Я думаю, что литература про отыгрывание часто фокусируется на том, что же именно в пациенте, который отыгрывает, цепляет что-то в терапевте. Я предполагаю, что есть гораздо более прямой путь к пониманию того, что происходит в наших отношениях с пациентами, который заключается в том, чтобы просто спросить себя: «Что я на самом деле делаю с этим конкретным пациентом?»
И тогда третья «жемчужина» заключается в том, что часто осознанное состояние ума помогает продуктивно ответить на этот вопрос. Если вы действительно можете присутствовать и спросить себя: «Что я делаю с этим пациентом?», часто возникает ясность, которая в противном случае была бы вам недоступна.
РУ: Спасибо, что поделились с нами сегодня своими «жемчужинами». У нас не было возможности узнать все о вашей работе, но хотя бы немного.
ДУ: Спасибо, да, мы многое узнали.
ВЯ: Спасибо, что поделились этим богатством знаний и мудрости.
Переведено с разрешения Psychotherapy.net
Русский перевод Copyright © 2022 NewPsy.org All rights reserved
-
Дэвид Уоллин
доктор философии
Клинический психолог, занимающийся частной практикой в Олбани и Милл-Вэлли, Калифорния. Выпускник Гарвардского колледжа, получивший докторскую степень в Институте Райта. Практикует, преподает и пишет о психотерапии почти три десятилетия.
Авторо книги Attachment in Psychotherapy (Guilford, 2007) и соавтором (вместе со Стивеном Голдбартом) книги Mapping the Terrain of the Heart: Passion, Tenderness, and the Capacity to Love (Jason Aronson, 1996). Читает лекции о привязанности и психотерапии в Соединенных Штатах, в Институте Райта, Северокалифорнийском обществе психоаналитической психологии, а также в программах повышения квалификации Калифорнийского университета и Калифорнийской школы профессиональной психологии
-
Рэндалл К. Уайатт
доктор философии
Практикующий психолог из Окленда и Дублина, Калифорния. Специализируется на работе с посттравматическим стрессом, межкультурными терапевтическими отношениями и терапией пар, имеет большой опыт преподавания.
-
Виктор Ялом
доктор философии
Основатель и генеральный директор и художником-карикатуристом Psychotherapy.net. Он сам выпустил более 50 обучающих видеороликов в области психотерапии и консультирования. Ведет частную психотерапевтическую практику более 30 лет и проводит семинары по экзистенциальной гуманистической и групповой терапии в США, Мексике и Китае.